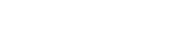Социализм в теории и в натуре.
Социализм, который вчера был мечтою, и, как мечта, «не имел длины, ширины и толщины», а только вился синею струйкой к небу, — теперь, с февраля и марта этого года, сел на землю, получил очертания, и всякий может его рассматривать concreto. Удивительно, что он не производит того же впечатления, став осязательным. Все помнят журнал Михайловского и Щедрина «Русское Богатство», который карательною экспедициею цензуры был превращен в «Русские Записки». 15 апреля была разослана подписчикам этого журнала книжка, на толстой обложке которой, имитирующей цветом и шрифтом обложку былых «Отечественных Записок» (мать «Русского Богатства» и бабушка «Русских Записок», где участвовал еще Белинский), с новым и старым заглавием одновременно: «Русские Записки». «Русское Богатство», 1917, № 2 — 3, февраль — март. Будущий историк нашей культуры и совершившегося в нашей жизни теперь переворота должен будет со всем тщанием изучить эту книжку. От дня ее выхода до содержания и тона статей — тут все замечательно. Во-первых, историк усмотрит, каковы же были условия труда, и в частности книгопечатного труда, если вождь радикальной журналистики в Петрограде и России не мог в течение полутора месяцев сообщить своим читателям о том самом перевороте, которого он и его литературная традиция ожидали не более и не менее как с 1842 — 1845 годов, т. е. без немного век!!! Тут все поразительно: стойкость и упорство ожидания, это одна струна, дрожащая без изменения в том же тоне 75 лет, на ту же тему, с тем же в сущности социал-демократическим содержанием, которое обняло последний период деятельности нашего знаменитого критика. Поистине, осуществилось: «Толцыте и отверзется вам», «стучите все в одну дверь — и тогда она откроется». Да, — не один Бог и Провидение управляют миром и историею: они очевидно дали какую-то автономию человеку, отпустили в историю его некоторое самоуправление, дав ту награду труду человеческому и упорству человеческому, по коей что бы ни составляло содержания этого труда, пусть даже бунт против самого Провидения и Бога, — это все равно будет награждено, получит успех, если «в дверь достаточно долго и с настоящим чистосердечием толклись, стучались, колотились». Замечательно и должно быть запомнено…
И вот переворот совершился. Не только нет прежней формы правления, — нет прежней династии! Событие таково, что даже и в мае смотришь и озираешься, смотришь и не веришь себе, смотришь и ощупываешь себе руки и голову. И что же: семидесятипятилетнее ожидание, и журнал даже не может напечатать для читателей, что «все исполнилось по вашему ожиданию». Сокращенная «в две» одна книжка отпечатывается только к 17 апреля! Т. е. для могущественного журнала и могущественной типографии, где уже все налажено, запасено, подготовлено, где работают старые «верные» наборшики и техники, — нет никаких средств выйти ранее, очевидно — нет технических и рабочих средств! Действительно, выходят, вот уже третий месяц, одни чрезвычайно многочисленные газеты и самые тощие брошюрки, большею частью отвратительного политическо-порнографического содержания, с рассказами о царской семье, в которых чем меньше приличия, тем обеспеченнее сбыт на рынке.
В книжке помещены статьи Веры Н. Фигнер «После Шлиссельбурга», но не эти слова пророчицы революционной привлекают нас — более или менее воспоминательные. «Ах, мемуары кончились, началась настоящая история». И мы спешим к записям очевидцев. Эти-то, эти капли живой воды, которые еще падают и не упали, которые уже отделились от небес, от судьбы, а на землю еще не успели упасть, — мы их ловим руками и жадно пьем.
И вот перед нами полные трепета и огня «Обвал» Ф. Крюкова, «Как это произошло» А. Петрищева, «Великий переворот и задачи момента» В. Мякотина и «На очередные темы» теперешнего уже министра А. Пешехонова. Этот бывший сельский учитель, все время провозившийся с революцией, — сейчас уже министр «Всероссийского правительства». Может ли быть что-нибудь головокружительнее?? В какой сказке конь быстрее бежит, чем в нашей действительности, «серый волк» лютее щелкает зубами и у Ивана-Царевича выходит лучше удача?
Рассказ Ф. Крюкова более чем превосходен: он честен. Я много лет замечал эту струю, то толстевшую, то утончавшуюся в нашей народнической литературе, — струю простого, ясного, доброго отношения к действительности, пересказа «того, что есть», без всякой собственно тенденции, хотя тенденция в душе автора есть. Это была лучшая всегда ее сторона, которой просто верилось, которая просто уважалась, хотя бы у читателя и было расхождение с душою самого автора в его читательской и совсем другой тенденции. «Ваши убеждения для меня трын-трава. Но вы не переврете, не обманете, вы расскажете то, что видели, и попросту и не скрывая освещаете все светом из своей души: и я вас слушаю». Думаю, что этой стороной своей радикальная журналистика и привлекала к себе всеобщее внимание, привлекала 75 лет и в конце концов его именно победила. Тут и было сосредоточено: «толцыте и отверзется». Струи этой вовсе не было у журналов типа «Вестника Европы», и даже в этой журналистике, заметно, ее нет у инородцев и «анонимов». Это — чисто русская и даже великорусская черта; дух, слово и присловье наших приволжских губерний.
И он зарисовывает уличные сценки Петрограда, начиная с 23 февраля, когда куда-то «поехал», и вот — торгуется утром этого дня с извозчиком. И — до минуты отречения бывшего государя от престола. Десять страничек, а истории как не бывало. Той русской истории, которая три века тянулась непрерывно, три века развивалась и вся шла одним ходом: и вдруг свернула на сторону и повалилась. Поистине, «обвал»: как точно самое заглавие. И всего — пять-шесть дней. Без громов, без артиллерии, без битвы! А что перед этим «обвалом» великая Северная война, тянувшаяся двадцать лет при Петре Великом, — и Отечественная война с ее последствиями, и Севастопольская война с ее тоже последствиями, и — теперешняя борьба с Германией, которой пылает вся Европа, даже весь мир. Для России ее теперешнее потрясение превосходит все вероятное и невероятное. Ах, не «обвалы» внешние в мире значат много, не громы орудий, не борьба, не битвы, не сражения: страшнее, когда незаметная мышка точит корень жизни, грызет и грызет его, и вот — перегрызла. Тогда вдруг лиственное дерево, громадное, зеленое, казалось бы, еще полное жизни — рухается сразу на землю. И пожелтеют его листья, и не берет оно больше из земли силушки. Корни его выворочены кверху.
Эта мышка, грызшая нашу монархию, изгрызшая весь смысл ее -была бюрократия. «Старое, затхлое чиновничество». Которое ничего не умело делать и всем мешало делать. Само не жило и всем мешало жить.
Тухлятина.
Протухла. И увлекла в падение свое и монархию. «Все повалилось сразу». — «Ты защищаешь ее все: так провались и с защищаемым вместе». С тем защищаемым, с которым мы не можем жить, с которым мы не хотим жить, с которым, наконец, «не благородно жить».
А все началось уличными мелочами. Но, поистине, в столице все важно. Столица — мозг страны, ее сердце и душа. «Если тут маленькая закупорка сосуда — весь организм может погибнуть». Можно сказать, безопаснее восстание всего Кавказа, как были безопаснее бунты Польши в 1830 г. и в 1863 г., нежели вот «беспорядки на Невском и на Выборгской». Бунтовала Польша — монархия даже не шелохнулась. Но вдруг стало недоставать хлеба в Петрограде; образовались «хвосты около хлебных лавок». И из «хвостов» первоначально и первообразно — полетел «весь образ правления к черту». С министерствами, министрами, с главнокомандующими, с самим царем — все полетело прахом. И полетело так легко-легко. Легкость-то полета, нетрудность напряжения — и вскружила всем головы. Это более всего всех поразило.
— Как тысячу лет держалось. И вдруг только «в Петрограде не хватает булочек». От Рюрика до Николая II одно развитие, один ход, один в сущности смысл: и вдруг «на Выборгской стороне не хватило булок» — и все разом рухнуло. Все это зачеркнуто. Зачеркнуто ли? Нет, не то страшно, что это так страшно. А то страшно, что страшного-то ничего и не было. Тут-то мы и узнаем «легкость жизни людской», легкость в сущности самой истории. «Мы думали, что она тяжела, — ну, хоть как поезд. Для поезда, чтобы его сдвинуть с места, нужен паровик. Сколько же нужно, чтобы сдвинуть с места город? А губернию?»
— По крайней мере, нужно землетрясение, извержение вулкана. Везувий засыпал Помпею, а Неаполя — в десяти верстах от себя, — не засыпал. Сколько же нужно, чтобы перевернуть вверх дном Россию?
Поверишь в Провидение, когда услышишь в ответ:
— Чтобы перевернуть Россию вверх дном, то для этого всех сил человеческих недостаточно. Но — человеческих, земных. Для Провидения же, для небес и Бога — достаточно, если люди: солдаты, казаки, барыни, барышни, девки, бабы, мужчины, рабочие, полицейские, гулящие девицы на тротуаре проболтаются и проваландаются на Выборгской стороне и на Невском проспекте дней пять-шесть в болтовне и будут все шутить небольшие шуточки, угощаться папиросками и прочее. Познакомятся ближе и в обоюдном осязании и говоре поймут, что «все люди». Вот этого — достаточно. Потом — самое легкое сотрясение, неудачный или бестактный приказ власти — и «вся Россия перевернется».
Начинается рассказ Ф. Крюкова с частной подробности: как извозчик его, старик, провозит контрабандой из Ораниенбаума овес для своей лошади. «Прикроем телегу бумагой, газетными листами — и ничего. Везем». Крюкову это кажется и недозволительным, «против начальства», и он переводит извозчика на другой разговор, дабы и извозчика и его полиция не могла обвинить в нарушении приказа правительственного о «нераспространении ложных слухов». Вот с чего начинается. Потом перелистывается двадцать четыре странички рассказа беллетристического, все уличных сценок и ые более. «Никакого извержения вулкана». «Ни малейшего сотрясения земли». Между тем на них происходит не только отречение императора от трона, — и с наследником и со всем родом своим: но уже старый революционер плачет первыми революционными слезами:
«В день, когда по всему городу пошли и поехали с красными флагами, я шел, после обычных скитаний по городу, домой, — усталый и придавленный горькими впечатлениями. Звонили к вечерне. Потянуло в церковь, в тихий сумрак, с робким, ласковым огоньком. Вошел, стал в уголку. Прислушался к монотонному чтению — не разобрать слов, но все равно — молитва. Одними звуками она всколыхнула переполненную чашу моей скорби и вылила ее в слезах, внезапно хлынувших. Поврежденный в вере человек, я без слов молился Ему, Неведомому Промыслителю, указывал на струпья и язвы родной земли… на страшные струпья и язвы».
И вот для будущего историка свидетельство современника и очевидца события, т.е. Крюкова и меня: что все решительно так и произошло, как он передает. Т.е. ничего в сущности не произошло, не было. Центр (как теперь говорят) — братанье на двух фронтах, «публики и казаков», публики и солдат, без ожидания, без малейшего ожидания кого-нибудь, что из этого что-нибудь выйдет. Вот отрывок:
«По сущей правде и совести скажу здесь то, что видел и слышал я в эти единственные по своей диковинности дни, когда простое, обыденное, серое, примелькавшееся глазу фантастически сочеталось с трагическим и возвышенным героизмом; когда обыватель, искони трепетавший перед нагайкой, вдруг стал равнодушен к грому выстрелов и свисту пуль, к зрелищу смерти, и бестрепетно ложился на штык; когда сомнение сменялось восторгом, восторг страхом за Россию, красота и безобразие, мужество, благородство, подлость и дикость, вера и отчаяние переплелись в темный клубок вопросов, на которые жизнь нескоро еще даст свой нелицеприятный ответ.
Не скрою своей обывательской тревоги и грусти, радости и страха, — да простится мне мое малодушие… Как обыватель, я не чужд моей гражданской тоски, гражданских мечтаний, чувства протеста против гнета, но мечты мои — не стыжусь сознаться в этом — рисовали мне восход свободы чуть-чуть иными красками, более мягкими, чем те, которые дала ему подлинная жизнь. Итак, попросту передам то, что видел, чувствовал и слышал в эти дни».
«Вечером по телефону товарищ по журналу сообщил, что на Невском была стрельба, казаки убили пристава.
— От кого вы это слышали?
— Очевидцы рассказывают.
— Не верю очевидцам: сам ходил — ничего не видал.
— На Знаменской, говорят…
— До Знаменской, правда, не дошел, но очевидцам не верю: много уж очень их стало…
Уныло молчим оба. Ясно одно, что дело проиграно, движение подавляется и люди тешатся легендами.
— Раз стреляли, значит — кончено, — говорю я безнадежно, — надо разойтись. А вот — когда стрелять не будут, тогда скажем «ныне отпущаеши раба твоего…»
Поразительно — и пусть да запомнится его историкам — что на улицах и в домах Петрограда точь-в-точь все так и было, как рассказывает Крюков; т. е. что в сущности почти ничего не было; и тем не менее, перебежав через все эти подробности, мы перешли, вся Россия перешла, из самой безудержной деспотии, как характеризовал дотоле журнал состояние России, в «самый свободный образ правления». И всего — двадцать пять страниц; и — ничего решительно не пропущено. Вот что значит не «историческое рассуждение», от которого со сна мрут мухи, а «художественные штрихи» непритязательного журналиста.
«Росла тревога, росла тоска: «что же будет? все по-старому?»
Приходил профессор и рассказывает уличную сценку:
— Сейчас видел атаку казачков…
— Ну?!
— Шашки так и сверкнули на солнце.
Он сказал это деланно спокойным тоном, притворялся невозмутимым. У меня все упало внутри.
— Ну, значит, надо бросить…
— Само собой…
— Раз войска на их стороне, психологический перелом еще не наступил. Да ты видел — рубили?
Он не сразу ответил. Всегда у него была эта возмутительная склонность — поважничать, потомить, помучить загадочным молчанием.
— Рубили или нет — не видел. А видел: офицер скомандовал, шашки сверкнули — на солнце так ловко это вышло, эффектно. И нырнул в улицу Гоголя — и наутек! Благодарю покорно…
Помолчал. Затем прибавил в утешение еще:
— И бронированные автомобили там катались, — тоже изящная штучка… Журчат.
— Иду смотреть».
В какой тоске… бедный социалист, старый социалист (он ссылается на года: «солидный вид и седая голова»)… Когда же придет заря освобождения отечества? И вот она пришла.
«Когда я перебегал на другую сторону улицы, вдруг сзади, со стороны Невского, затрещали выстрелы. Был ли это салют при обстреле восставших — не знаю. Но все, что шло впереди меня и по обеим сторонам, вдруг метнулось в тревоге, побежало, ринулось к воротам и подъездам, которые были заперты, и просто повалилось наземь.
Побежал и я.
— Неужели сейчас все кончится? Упаду? Пронижет пуля и — все. Господи! неужели даже одним глазом не суждено мне увидеть свободной, прекрасной родины?
Я бежал. Но понимал, что это глупо — бежать, надо лечь, как вот этот изящный господин в новом пальто с котиковым воротником-шалью, распластавшийся ничком и спрятавший голову в тумбу. Но было чего-то стыдно… Очень уж это смешно — лежать среди улицы. И я бежал, высматривая, куда бы шмыгнуть, прижаться хоть за маленький выступ. Но все ниши и неровности в стенах были залеплены народом, как глиной…
И вдруг, среди этой пугающей трескотни, в дожде лопающих звуков, — донеслись звуки музыки… Со Спасской вышла голова воинской колонны и завернула направо, вдоль Литейного. Оттуда, ей навстречу, прокатился залп. Но музыка продолжала греметь гордо, смело, призывно, и серые ряды стройною цепью все выходили и развертывались по проспекту, вдоль рельсовой линии. Это был Волынский полк.
Я прижался к стене, у дома Мурузи. Какой-то генерал, небольшой, с сухим, тонким лицом, с седыми усами, — не отставной, — тяжело дыша, подбежал к тому же укрытию, которое выбрал я, споткнулся и расшиб колено. От него я узнал, что вышли волынцы.
Гремели выстрелы, весенним, звенящим, бурным потоком гремела музыка, и мерный, тяжкий шум солдатских шагов вливался в нее широким, глухим, ритмическим тактом. Не знаю, какой это был марш, но мне и сейчас кажется, что никогда я не слыхал музыки прекраснее этой, звучавшей восторженным и гордым зовом, никогда даже во сне не снилось мне такой диковинной, величественной, чарующей симфонии: выстрелы и широко разливающиеся, как далекий крик лебедя на заре, мягкие звуки серебряных труб, низкий гул барабана, стройные серые ряды, молчащие, торжественно замкнутые, осененные крылом близкой смерти…
Прошел страх. Осталась молитва, одна горячая молитва с навернувшимися слезами — о них, серых, обреченных, сосредоточенно и гордо безмолвных, но и безмолвием своим кричащих нам, робким и мелким, и всему свету: «Ave patria! morituri te salutant»[«Здравствуй, родина! идущие на смерть тебя приветствуют» (лат.)]…
Как чудно… Издали, исчужа слушаешь — и все-таки говоришь себе: «чудно». Господи, есть ли религия в истории? Господи, если она есть, то ведь что же значат ожидания человеческого сердца, вот — многолетия, вот — столько лет? Если не насыщать их, то для чего же вообще жить, где же смысл истории, и не правы ли были те, которые проклинают Небо? Конечно, в самом насыщении земли — не только дар Неба, но и обязанности Неба: в насыщении всяком, «противоположном моему желанию». «Если ты, социалист, так радуешься, то хотя я вовсе не социалист, пожму тебе руку, ибо брат мой сыт».
Ах, жутка вся эта книга, весь номер. Я несколько раз перечитал и Петрищева, и Мякотина — с бурными, прямыми, резкими упреками Совету Рабочих и Солдатских Депутатов, перед коим все «преклоняются сейчас». Я сам читал «придворные» статейки в воистину буржуазных газетах, под заглавием: «Мудрость Совета Рабочих и Солдатских Депутатов». Вообще, нельзя не заметить, что именно буржуа сейчас пуще всего лижут пятки у демократии. Бедные, очевидно, очень растерялись.
«Сражаться уже не с кем было: остатки полицейских повылезли с чердаков и сдались. Войска неудержимой лавиной перекатывались на сторону восстания, и покушение вернуть военной силой власть в старые руки было похоже на попытку сплести кнут из песка. Все рассыпалось… С грохотом катился обвал — глубже и шире…
Стало совершившимся фактом отречение. Неделей раньше с радостью, со вздохом облегчения была бы принята весть о министерстве доверия. Теперь пришла нежданная победа, о которой и не мечтали, и в первый момент трудно было с уверенностью сказать самому себе: явь это или сон?..
Но почему же нет радости? И все растет в душе тревога и боль, и недоумение? Тревога за судьбу родины, за ее целость, за юный, нежный, едва проклюнувшийся росток нежданной свободы… Куда ни придешь — тоска, недоумение и этот страх… Даже у людей, которые боролись за эту свободу, терпели, были гонимы, сидели в тюрьмах и ждали страстно, безнадежно заветного часа ее торжества…
Нет радости…
— Нас все обыскивают! При старом режиме это было реже…
— В соседней квартире все серебро унесли… Какие-то с повязками… Звонок. Неужели опять с обыском?
Да, обыск. Два низкорослых, безусых солдатика с винтовками, с розами на папахах. В зубах — папиросы.
— Позвольте осмотреть!
— Смотрите.
Один пошел по комнатам, другой остался в прихожей.
— Что нового? — спросил я.
— Вообще, военные все переходят на сторону народа. Ну, только в Думе хотят Родзянко поставить, то мы этого не желаем: это опять по.-старому пойдет…
Я не утерпел, заговорил по-стариковски, строго и наставительно:
— Вам надо больше о фронте думать, а не о Родзянке. Поскорей надо к своему делу возвращаться.
Он не обиделся. Докурил папиросу, заплевал, окурок бросил на пол.
— Да на позицию мы не прочь. Я даже и был назначен на румынский фронт, а сейчас нашу маршеву роту остановили. Вот и штаны дали легкие, — он отвернул полу шинели.
— Ну вот — самое лучшее. Слушайтесь офицеров, блюдите порядок, дисциплину, вежливы будьте…
— Да ведь откозырять нам не тяжело, только вольные не велят нам. Не было радости и вне стен, на улице.
Человеческая пыль пылью и осталась. Она высыпала наружу, скучливо, бесцельно, бездельно слонялась, собиралась в кучки около спорящих, с пугливым недоумением смотрела, как жгли полицейские участки, чего-то ждала и не знала, куда приткнуться, кого слушать, к кому бежать за ограждением и защитой.
Расстроенный, измученный хозяин торговли сырами плакал:
— Господа граждане! За что же это такое! Так нельзя! Граждане-то вы хоть граждане, а порядок надо соблюдать!..
Очевидно, новый чин, пожалованный обывателю, тяжким седлом седлал шею брошенного на произвол свободы торговца…
Удручало оголенное озорство, культ мальчишеского своевольства и безответственности, самочинная диктатура анонимов. Новый строй — свободный — с первых же минут своего бытия ознакомился с практикой произвола, порой ненужного, и жестокого, и горько обидного…
Но страшнее всего было стихийное безделье, культ праздности и дармоедства, забвение долга перед родиной, над головой которой занесен страшный удар врага…
И рядом — удвоенные, удесятеренные претензии…
Не чувствовала веселья моя обывательская душа. Одни терзали. Но к ним тянуло неотразимо, не было сил усидеть дома, заткнуть уши, закрыть глаза, не слышать, не видеть…
Усталый, изломанный, разбитый, скитался я по улицам, затопленным праздными толпами. Прислушивался к спорам, разговорам.
По большей части, это было пустое, импровизированное сотрясение воздуха — не очень всерьез, но оно волновало и раздражало.
— Ефлетор? Ефлетор — он лучше генерала сделает! Пущай генерал на мое место станет, а я — на его, посмотрим, кто лучше сделает. Скомандовать-то всяк сумеет: вперед, мол, ребята, наступайте… А вот ты сделай…
— У нас нынче лестницу барыня в шляпке мела…
— И самое лучшее! Пущай…
— Попили они из нас крови… довольно уж… Пущай теперь солдатские жены щиколатку поедят…
Я знаю: все в свое время войдет в берега, придет порядок, при котором будет возможно меньше обиженных, исчезнут безответственные анонимы, выявив до конца подлинное свое естество. Знаю… Но болит душа, болит, трепетом объятая за родину, в струпьях и язвах лежащую, задыхающуюся от величайшего напряжения…»
Мне тоже хочется зарисовать картинку. Было что-то 1 — 2-е марта, или 29 февраля. Я всегда был заядлый консерватор, или, точнее, я думал о политике: «Noli tangere meos circulos» [Не прикасайся к моим кругам (лат.)] — «Не мешай, политика, мне думать свои мечтания». Ну, вот, дело было под вечер, сменял я туфли на сапоги,, даже надел пальто и спустился вниз к швейцару. Постреливали… «Надо же посмотреть». И я шагнул в улицу. Это около самой Думы (Госуд.).
Вечерело. Прокатился автомобиль, — с солдатами и сестрами милосердия, которые тогда все разъезжали. И один, и другой. Шли рабочие. Опять шли. И вот с ружьишком наперевес, «сейчас иду в штурм», прошел, проковылял — мимо меня ужасно невзрачный рабочий, с лицом тупым…
И вся история русская пронеслась перед моим воображением… И Ключевский, и С.М. Соловьев, и И.А. Попов: все, кого я слушал в Москве. И я всем им сказал реплику консерватора:
— Господа, господа… О, отечество, отечество: что же ты дало вот такому рабочему? Какое тупое лицо, какое безнадежное лицо. Но оно-то и говорит ярче всяких громов: вот он с ружьишком. Кто знает, может, поэт. Тупое внешнее выражение лица еще ничего не значит. Я сам непрерывно имею «тупое выражение лица», а люблю пофантазировать. Он прямо (этот рабочий) идет в атаку «сбросить ненавистное правительство». Да и прав. О, до чего прав. Ведь их миллионы, таких же, и все тупых и безнадежных; какую же им радость просвещающую дали в сердце? А радость — всегда просвещает. Один труд, одна злоба, один станок окаянный. Как он держится за ружье теперь: первая «собственная дорогая вещь», попавшая ему в руки, не спорю — может быть украденная. У вас — броненосцы. Флот. Силы. А если силы — то и слава. Что же из этой славы и величия отечества вы дали ему? Сами вы генералы, а его превратили в воришку. Но живет во всякой душе сознание достоинства своего, и в том-то и боль, что вы не только сделали «сего Степана» отброшенным, ненужным себе, ненужным ни Ключевскому, ни Соловьеву, которые занимаются «величествами историческими», а сделали наконец воришкой, совсем заплеванным, и о котором «сам Бог забыл». Но это вам кажется, что Бог забыл, потому что собственно забыли вы сами, господа историки, а Бог-то не может ни единого человека забыть, и вот воззвал этого Степана, и дал ему слово Иова и ружье… Забыт, забыт и забыт. О, как это страшно: «забытый человек». Позвольте: об Иове хоть «Книга Бытия» говорит, какими громами, — и имя его не забудется вовек. Он прославлен, и славою пущею всяких царств. Но сколько же Степанов, сколько русских Степанов забыто русскими историками и русскою историею, всею русскою историею, — окончательно, в полной запеханности, в окаянном молчании. И по погребам, по винным лавкам, по хлевам они дохли, как крысы, «с одной обязанностью дворника выбросить их поутру к черту».
И сам церковник негодовал на церковь:
— Ну, а ваши песнопеньеца? Такие золотистые? С кружевцом? С повышением ноты и с понижением ноты? Сам люблю, окаянный эстет: но ведь нигде же, нигде этот Степка опять не вспомнен, не назван, не обласкан, не унежен? Весь в лютом холоде, тысячу лет в холоде, да не в северном, а в этом окаянном холоде человеческого забвения и человеческой безвнимательности.
Буря.
Уж это в душе.
«И вспомнил Бог своего Иова»… «Русского Иова-Степана». «И вот полетело все к черту».
«Иди, иди, Степан. Твое ружье, хоть ворованное. Иди и разрушай. Иди и стреляй».
Буря. Натиск (сам поэт). Пришел домой. Снял сапоги и надел опять туфли.
Но, я думаю, в моем соображении есть кое-что истинное. Всякая революция есть до некоторой степени час мести. В первом азарте — она есть просто месть. И только потом начинает «строить». Поэтому именно первые ее часы особенно страшны. И тут много «разбитого стекла». Но вот — месть прошла, прошел ее роковой, черный и неодолимый час. «Вопрос в том, как же строить». Это неизмеримо с часом разрушения, и тут все «в горку», «ноженьки устают», под ногами и песок, и галька, местами — тяжелая глина.
И вот, странная мысль у меня скользит. Собственно, за XIX век, со времен декабристов, Россия была вся революционна, литература была только революционна. Русские были самые чистые социалисты-энтузиасты. И конечно «падала монархия» весь этот век, и только в феврале «это кончилось».
И странная мысль с этим концом у меня сплетается. Что, в сущности, кончился и социализм в России. Он был преддверием мести, он был результатом мести, он был орудием мести. Но «все совершив, что нужно», — он сейчас или завтра уже начнет умирать. Умирать столь же неодолимо, как доселе неодолимо рос. И Россия действительно вошла в совершенно новый цвет. Не бойтесь и не страшитесь, друга, сегодняшнего дня.
Впервые опубликовано: Новое время. — 1917. — 1 июн (19 май).
Розанов В. В., Собрание сочинений. Мимолетное, М., 1994.
Социализм в теории и в натуре. Социализм, который вчера был мечтою, и, как мечта, «не имел длины, ширины и толщины», а только вился синею струйкой к небу, — теперь, с февраля и марта этого года, сел на землю, получил очертания, и всякий может его рассматривать concreto. Удивительно, что он не производит того же впечатления, став осязательным. Все помнят журнал Читать далее