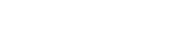В СОВЕТЕ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ
I
Ну, наконец, — билет, и я в Думе. Это Великие Пятница и Суббота. И, как «княгиня Марья Алексеевна» или «Коробочка» Чичикову, расскажу читателю все сплетни. Билет у меня — на проход в «Совет Рабочих и Солдатских Депутатов», т.е. в самое пекло, где пекутся события, угрозы, — ветры, тревоги и т.д. и т.д. — значит, есть о чем рассказать, о чем рассказать маленькому политическому сплетнику.
В пятницу я замешкался; разные хозяйственные дела — «нет ни фунта сахара в дому», апрель еще не наступил, новых карточек не выдано, или их можно «получить только к 6 часам после обеда», и я все время провел в мыслях о сладкой пасхе и подслащенном куличе, и в Г.Думу попал только тогда, когда густой толпой «рабочие и солдаты» выходили из зала совещания, и я уже мог только «облизаться» на речи. Но сперва — о пропусках. Билет мне дан был самый официальный, за всеми подписями, но почему-то перекрещенный крест-накрест синим карандашом. Я, когда брал, «усомнился о крестах». Мне ответили: «Ступайте! Знаем!» Я подчинился, как старый обыватель старого порядка, и робко показал солдату со штыком в воротах Госуд. Думы. Солдат задумался. «Это что значат кресты? Нельзя, значит». Я, видя, что дело «пропадает», извиняясь, сказал, что «там дальше», т.е. дальнейшие ревизоры «прохода», вероятно, понимают условное значение крестов, солдат задумался, а я уже проскользнул дальше — на парадный вход…
Только какой же это «парадный»? Вход, конечно, тот же, как при Муромцеве, Головине, Хомякове, Гучкове, т.е. тот же по устройству, по архитектуре. Но цвета?!!… — Прежде был дворянский, палевый, золотистый, солнечный. Теперь он стал какой-то бурый, «захватанный», «демократический». Дело ясное: просто нет ремонта. Но это «нет ремонта» отозвалось в душе какой-то угрозой. «Смотри и не зевай».
Правда, я несколько лет не был в Государственной Думе: но неужели это Екатерининский зал, с его исключительною красотою, с его блеском и торжественностью? Тут-то, в первой Думе, я помню прогуливавшегося «в антрактах» Аладьина, в его коротком пиджаке, разговаривающего на скамеечке Герценштейна, и откуда-то дюжих депутатов, в широченных поясах, с Волыни и Подола (Подольская губ.), и ксендзов, и татар. Куда все девалось!!! Солдаты, больше всего солдаты, с ружьями, с этими угрожающими (мне казалось) штыками, которые стоят перед всякой комнатой, перед всяким проходом, и все что-то «сторожат». «Кого они сторожат?» «Что они сторожат?» — «Ах, увидеть бы комнату, министерский павильон». «Но, очевидно, нельзя». Мне только показали длинную лестницу кверху, которая «ведет в министерский павильон». Боже, и я пропустил те дни, когда по ней вели «сих старцев». Сих «бывших министров» и их интересных жен, как m-me Сухомлинова. Розанов вечно есть тот «мушкетер, который всюду опаздывает».
Черный бронзовый бюст Александра II цел и на месте. Большой образ, перед которым когда-то «служили», тоже цел и на месте. Множество комнаток, кабинетов, отделений. Вот «комната агитаторов»: это бросилось в глаза по резкости надписи. «Что такое?» Но вообще все комнатки и кабинеты относятся до Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, обслуживая его в разных функциях и делах. Мне это в голову не приходило, и, очевидно, в России тоже «смутно» на этот счет: что теперешняя Государственная Дума, которая естественно и конечно распущена сейчас, территориально занята Советом Рабочих и Солдатских Депутатов, который и есть на самом деле и временно пока единственное «представительное учреждение в России», но «об одной нижней палате», без «господ», без «палаты лордов» (применяясь к английским понятиям и английскому парламенту). На другой день, когда я попал «на прения», это было сказано и с кафедры одним оратором, т.е. было прямо и определенно заявлено, что «сейчас в лице Совета Рабочих и Солдатских Депутатов Россия имеет представительство об одной нижней палате». Это давно надо было сказать, потому что в России существует самое смутное представление о том, что же такое «Совет Рабочих и Солдатских Депутатов». Я хотя и живу в семи минутах ходьбы до Таврического дворца, но определенно не знал не только этого, но не знал точно и доказательно, где же именно помещается «Совет», состоящий, как мне казалось, из немногих членов, по естественному смыслу своего названия или своего заглавия.
II
Смеркалось. Я опасливо оглядывался. «Ах, заглянуть ли в министерский павильон». Заседание кончилось. И я стал «толкаться», как праздный русский человек в непраздном месте. И конечно, сейчас же по русскому обычаю — повел из души своей критику:
— Это что такое? Почему все всех учат? Что это за ланкастерское обучение («обоюдное», «друг дружку учат», — ученики учеников).
Действительно, «вся изящнейшая Екатерининская зала» была переполнена крошечными митингами, человек в 20, в 30 — не более, где рассуждали о Временном правительстве, больше всего о Милюкове и Гучкове, — о политике внешней, о войне и что «необходимо ее прекратить», «необходимо во что бы то ни стало», «потому что кровь народная проливается», а «начал войну и вступил в союз с союзниками вовсе не народ, а буржуазное правительство», коего «обязательства никакой обязанности для народа не представляют собою» и что «Милюков обязан — это учесть, а если он — не учитывает», то какой же он выразитель воли народной, он «в сущности служит старому буржуазному правительству». Говорил студентик с чуть-чуть пробивающимися темными усиками, и с ним спорил офицер, красивый и умный, лет 40. Но студент волновался, голос его был криклив, и солдаты басом гудели: «Продолжай, товарищ! Продолжай, товарищ!» — «Просим продолжать!!» Студент, столь одобряемый, естественно, летел дальше, — и разносил наше правительство, и всех этих буржуазных министров, из которых одни — капиталисты, как Гучков и Терещенко, а другие «имеют по 100 000 десятин земли, как Родзянко». «Какой же это народ?» Почему-то Милюков тоже попадал «в самые невозможные буржуа».
Это-то я назвал «ланкастерским способом обучения». Как бывший учитель, я сразу оценил всю пассивность слушателей, и развивающуюся на этой почве огромную и поневоле смелую уверенную активность, т.е. ту активность, которая поражает «залпом», как шампанское, и не столько научает, сколько одуревает слушателей. Офицер, бывший незадолго до войны во Франции, знавший лично Жореса, знающий еще каких-то бельгийских эсэров (судя по ходу его спора), едва выстаивал перед студентом, едва имел силу возражать ему. Я совсем молчал: куда тут говорить!! Но ведь это — пассивное обучение, это обучение «на ура!» — без какой-нибудь осторожности и с очень небольшим запасом знания и понимания. Договорю о маленьких митингах. Когда назавтра я пришел рано в Г. Думу, я встретил то же самое: ласковым вкрадчивым голосом, чрезвычайно симпатичным и с даром быть симпатичным, темный брюнет уговаривал большую толпу солдат и рабочих:
«Так все понимаете, кто любит народ? Любят его под-лин-но одни только социалисты»…
— «Понимаем! Понимаем!»
«Ну, какой же вопрос, за кого вы должны подавать голос в Учредительном Собрании? Вы должны разобраться, кто социалист, а кто не социалист. Ведь вы должны поступать разумно. Всякий человек должен быть разумен. Ну, и вот, вам будут предлагать выбрать разных людей в члены будущего Учредительного Собрания. Но вы узнайте только одно: кто же из них социалист? И как только узнали, кто социалист, — и подавайте за него голос: потому что он один любит народ, бедных, рабочих и солдат. И подаст голос в Учредительном Собрании за ту форму правления, которая одна только отстаивает народные интересы: за социал-демократическую республику. Это будет ваш голос, ваш интерес, ваша нужда».
— Вестимо. Мы все подадим за социал-демократов. А скажите, пожалуйста, — какая это газета «Русское Слово»…
Брюнет махнул рукой, с явно отрицательным жестом.
— Как будто она не очень стоит за интересы народные, а больше тянет к буржуазным классам.
Брюнет опять махнул рукой:
— Я уже вам сказал: выбирайте од-но-го толь-ко социал-демократа. Ну, какая газета «Русское Слово»? Конечно, буржуазная. Вам дела нет до других классов. И до газет других нет дела. Вы знайте социал-демократические газеты, народные газеты, рабочие газеты, будет разъяснено. Это — ваши газеты, народные газеты, рабочие газеты, солдатские газеты».
Такой симпатичный влекущий голос, «на голосок» я всегда сам иду. Только у меня смута стала в голове:
— А Россия?
— А война?
— А русская история?
— Самая деревня? Народная песенка? Наконец, извините, святые русские угодники?
— Я очень соглашаюсь, что ошибался всю жизнь, не обращая особенного внимания на социалистов и социализм. Но не впадает ли он тоже в мой грех, не обращая внимания, с другой стороны, — на вековой быт народа, тысячелетнюю историю его и, например, на нестеровских угодников, с прозрачными руками и прозрачными лицами? Не большая беда, если будет стоять дурак с одной стороны, например, но что будет, если будут с обеих сторон стоять два дурака, один не понимая другого, каждый отрицая каждого? Тут получается «тьма, умноженная на тьму», т.е. полная тьма. Получится разрыв истории, ее уничтожение. Что такое «форма правления, соответствующая нуждам народа»? Конечно, это — так, это — вполне правильно. Но — полно ли это? «Полнота» есть совсем другое дело, нежели «так» или «не так». Обворожительным голосом он вводит людей, глубоко неопытных в истории и неопытных в методах суждения, в социал-демократическую нужду: а ведь есть нужда еще в том, чтобы помолиться, есть нужда в том, чтобы праздник отпраздновать, да и просто, например, гигиеническая нужда, требующая у мужика, чтобы он в субботу в баньку сходил. У Маркса о бане ничего нет, и о праздниках — нет же, и нет вообще о быте, об узоре жизни, до некоторой степени — о кружеве жизни. У него есть только о том, «сколько получает» или, вернее, сколько недополучает рабочий, а о том, куда и как деньги истратил, — ничего нет. Между тем с «куда деньги истратить» начинается культура, цивилизация. Тайным образом и незаметно для слушателей оратор страшно оскорбил их всех, приняв за «первичный этнографический народ» вроде папуасов Австралии, тогда как слушали его представители великого исторического народа, «вспыхнувшие через революцию в новую эпоху существования». В «эпоху» дел никак не более дикую, чем в какую ранее, а в более развитую. Но какое же это «развитие», если тут не будет ни бани, ни молитвы, ни праздника. Я соглашаюсь, что я глуп «без социал-демократии»: но не будет ли глуп и социал-демократ «без всего прочего»?
Явно, для того чтобы образовать хоть что-нибудь умное, нам нужно «согласиться», «помириться». Я должен принять его социал-демократию и охотно принимаю: но с условием, чтобы и он принял «мое», принял Нестерова, принял «угодничков», принял «коньков» на крышу избы. А то
— Еда.
— Еда.
— Еще еда.
Стошнит, просто стошнит. И я остался неудовлетворен. «Мы»-то их примем. Это бесспорно. Совершенно бесспорно, что великие экономические нужды народные — рабочих и деревни — преступно обходились, забывались, пренебрегались. Правда революции совершенно бесспорна. Но она совершилась. И вышла «как по маслу». Просто нельзя удержать языка, чтобы не выговорить естественного и необходимого слова: «Бог помочь». Наступает великое «завтра».
— Эй, кто мудр — думай о «завтра»! Марксизм? Социализм?
— Какая галиматья, — отвечаю я, как новый гражданин, прямо, твердо и отчетливо. — Ибо «новый гражданин», мне кажется, прежде всего должен взять мужество на слово и мысль:
— «Завтра» мы должны позаботиться о всесторонней нужде народной, т.е. о нужде его как исторического существа, как исторического лица. И хлеб — это, конечно, первое; работа — это еще почти первее. Работа не истощающая, не морящая. Плата — дюжая. Согласен — о, трижды согласен: ведь сам работник, хотя и пером. Мне хочется огурчика раннего, парникового, хочу, чтобы он был и у мужика, и без лести хочу, без угодничества мужику. «По-братски».
— Но зачем, «куда» же девать дюжую плату еще? Вон оратор читал в подлиннике Карла Маркса, пусть же мужик читает подлинного Ключевского, — читает, понимает, разумеет.
И купит себе со вкусом сделанную гравюру с Нестерова… Нет, пусть он со вкусом выберет сам ее.
— Предпочтет, т.е. тоже сам, один театр другому…
«Тогда все обойдется». Тогда будет «кругло». И революции мы скажем: «ура!» Но если покажутся острые углы отовсюду, если вы будете объяснять народу, что «цивилизация есть социализм», что «цивилизация есть марксизм», даже без «бани» и гигиены, без песни, радости и шутки, то я вам скажу:
— Вы смотрите на народ, как на дикаря, как на пассивный этнографический материал в своих руках, для проведения в нем плана новых теоретических построений. И тогда я боюсь, что через небольшое время он поднимет новую революцию против вас, за отстаивание свободы, ибо он не захочет марксистской «кутузки», как не вынес штюрмерской и вообще «правящих сфер». Вот, гг. социалисты, вы с этим и подождите рваться в «правящие сферы». Это вам зарок и на завтра, и на послезавтра.
Обыватель
Впервые опубликовано: Новое время. — 1917. — 22 (9) апр. (№14747).
В СОВЕТЕ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ I Ну, наконец, — билет, и я в Думе. Это Великие Пятница и Суббота. И, как «княгиня Марья Алексеевна» или «Коробочка» Чичикову, расскажу читателю все сплетни. Билет у меня — на проход в «Совет Рабочих и Солдатских Депутатов», т.е. в самое пекло, где пекутся события, угрозы, — ветры, тревоги Читать далее